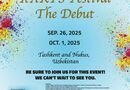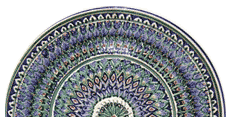| Мы освещаем новости культуры Узбекистана: театр, кино, музыка, история, литература, просвещение и многое другое. | 
|
|
|
|
25.09.2025 / 15:59:26
МАРИНИКА БАБАНАЗАРОВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ УЧИТЕЛЯ
Игоря Витальевича я помню с пяти-шестилетнего возраста, когда он стал появляться в нашем доме. В лице моих родителей Вероники и Марата Нурмухамедовых он обрел не только деловые контакты, но и друзей. Отец принял его на работу в 1956 году в Каракалпакский филиал Академии наук Узбекистана и позднее открыл для него лабораторию по изучению прикладного искусства. Совместная работа в течение десяти лет привела к созданию коллекции каракалпакского прикладного искусства, ставшей, по сути, генофондом культуры малого народа, искусство которого находилось на грани исчезновения. Стараниями двух друзей с опорой на местную интеллигенцию эта коллекция стала основой музея искусств, за открытие которого они боролись несколько лет. В отце Савицкий видел надежного друга, достойного собеседника и единомышленника. Оба обладали харизмой и пассионарностью, защищая свои взгляды, принципы и идеалы. С мамой Игоря Витальевича объединяла общность культуры, ностальгия по родине (оба москвичи) и ушедшему прошлому. Навещая нас и деля с нами трапезы, Игорь Витальевич любил рассказывать о своем детстве, семейных обедах, смешные истории о путешествиях его родных в Европу. Запомнилось наше совместное приготовление каракалпакских вареников с сырой яичной начинкой «маек борек», когда требовалась особая сноровка, чтобы быстро залепить края. У нас это не особо получалось, и на наш задорный смех прибежали даже соседи. Савицкому нравилась атмосфера в нашем доме, здесь он отдыхал душой и от проблем. В канун 1967 года мы переехали в Ташкент, куда перевели на работу в Академию наук отца. Собирая для музея картины художников в Самарканде и Ташкенте, Игорь Витальевич обычно останавливался у нас, и мы, естественно, были первыми зрителями приобретенных экспонатов. Наши с сестрой Ириной детские впечатления от таинственных, как нам казалось, автопортретов В. Марковой, гротесковых композиций М. Курзина или же его натюрмортов с сибирскими пельменями навсегда остались в памяти. Картины В. Уфимцева и У. Тансыкбаева воспринимались нами как нечто особое, мы верили, что Савицкий находит что-то неординарное, так как в музеях Москвы и Ташкента мы видели другое искусство, непохожее на то, что добывал Савицкий и с восторгом показывал. До и после показа во время выставки в Ташкенте экспонаты хранились в нашем доме. Денег у музея не было, да и надежных бесплатных хранилищ тоже никто не предлагал. Помню, как в нашей детской комнате стояла огромная деревянная скульптура «Амударьи» Ж. Куттымуратова. Наш трехлетний брат Артур ездил вокруг на велосипеде и норовил влезть на нее, а мы его отгоняли. Видя эти работы позже в музейных залах, я воспринимала их как старых знакомых. Вечерами, когда все собирались на кухне за чаем, говорили только о музее. Главной темой была оплата взятого в музей бесчисленного количества экспонатов. Савицкий с горьким смехом рассказывал, как его разыскивают владельцы произведений, чтобы он скорее заплатил им. Долгов скопилось на фантастическую сумму, и однажды, отчаявшись, Савицкий написал письмо Ротшильду. В этой связи было множество перипетий, порою очень нерадостных. Папа, будучи более реалистичным и дисциплинированным, пытаясь выручить Савицкого из очередной передряги, предостерегал: «Игорь, ты кончишь долговой тюрьмой!» Когда мне досталась тяжелая ноша директорства после смерти Игоря Витальевича, отец дал мне категорические наставления, два из которых запомнились навсегда. Первое: навести порядок в учетно-финансовой документации, на что у меня ушло более десяти(!) лет. Второе: не отдавать никому ничего из музея и не ставить свою подпись под позорными документами. Потому что этот позор войдет в историю. Я не сразу поняла, о чем речь, но со временем его напутствие определилось. Эти встречи и разговоры, оставшись в памяти, впоследствии прояснили мне мотивации Савицкого, особенно, когда я стала изучать его биографию и родословную при написании работ о нем и феномене созданного им музея. Они повлияли и на мой жизненный выбор. Никогда не желая для себя такой ответственности, как стать директором музея после Савицкого, даже когда он самолично просил меня об этом за год до смерти, я приняла его просьбу уже после кончины Игоря Витальевича. Просил об этом и коллектив преданных ему людей. Принятию решения о руководстве музеем способствовали и нескончаемая борьба за музей, начавшаяся практически с первого десятилетия его существования, и чувство долга перед памятью удивительной личности прежнего руководителя. Пришлось пожертвовать многим: покоем и размеренной жизнью, отнять ради музея у семьи все свободное время, без конца учиться, забыть о каком-либо досуге, на который просто не оставалось сил. 32 года в самом музее, детские и юношеские годы общения с Игорем Савицким, вся моя жизнь связали меня с музеем и обязательством перед памятью Учителя. Каждый шаг на посту директора был обозначен для меня какой-то задачей: добиться увековечения памяти Савицкого, поставить памятник на его могиле, построить музей, открыть при музее мастерскую по возрождению ремесел, расплатиться с долгами, сделать музей всемирно признанным, превратить его в объект международного туризма. Было чрезвычайно трудно! Больше всего обескураживало непризнание тех, кто должен был понять миссию Савицкого первым. В начале моего пути, добиваясь признания И. Савицкого, я писала о нем во многие СМИ. Запомнился ответ С. Разгонова из газеты «Советская культура» от 9.04.1985 г., куда я обратилась с просьбой опубликовать статью к юбилею Савицкого. Ответ был такой: «Мы знали и уважали Игоря Витальевича. Однако юбилеи художников отмечаются для тех, кто получил всесоюзное признание». Я ощущаю чувство гордости, что удалось убедить широкую общественность в особом вкладе Савицкого в историю мирового искусства. Кажется, всё задуманное получилось. Переслано от Елена Долгополова
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||