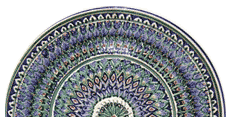| Мы освещаем новости культуры Узбекистана: театр, кино, музыка, история, литература, просвещение и многое другое. | 
|
|
|
|
09.10.2025 / 11:48:46
В 10 номере российского журнала "Дружба народов" опубликован очерк ташкентского писателя , члена Клуба "Интеллектуал" имени Батыра Базарбаева Лейлы Шахназаровой "Черная шелковица, белая акация"
В скором времени с ним можно будет познакомиться в ее новой книге « По пути мне вышло с фраерами». Это несколько страниц из истории ташкентской эвакуации в годы войны …Приехав в Ташкент, Абрам Маркович Эфрос привел свою молодую жену к Ахматовой. Тот первый визит запомнился Надежде Крикун до мелочей. Ахматова жила в маленькой комнатке на втором этаже дома № 7 по улице Карла Маркса. Подниматься надо было по довольно крутой лестнице. А.М. Эфрос, легко постучав в дверь, проговорил: «Анна Андреевна...». Из-за двери послышался низкий, грудной голос: «Абрам Маркович, вы? Входите, входите...». Эфроса и Ахматову связывало давнее знакомство, еще когда он в 1922 году организовывал для нее выступления в Москве. В 1924-м оба писали для журнала «Русский современник», а спустя несколько лет Абрам Маркович привлек Анну Андреевну к работе над переводом писем Рубенса. И вот теперь, спустя почти двадцать лет, судьба снова свела их – в эвакуации, в городе, «от войны далеком, но уже прифронтовом»… Надо сказать, что Узбекистан сыграл в судьбе А.М. Эфроса немалую роль. Тогда, в эвакуации, в 1942–1943 годах, Абрам Маркович, к тому времени известный искусствовед и критик, вел семинар по музееведению на искусствоведческом отделении Среднеазиатского университета. После войны вернулся в Москву, но, как оказалось, ненадолго: вскоре его выслали на четыре года снова в Ташкент. Эта ссылка стала следствием развернувшейся в те годы кампании по борьбе с «космополитизмом». С 1950 по 1954 годы, вплоть до своего отъезда назад в Москву, А. Эфрос работал в Ташкентском государственном институте театрального искусства. «…Среднеазиатский театральный институт создали вот эти «безродные космополиты», высланные из Москвы в конце 40-х годов. Это Абрам Маркович Эфрос, это Михаил Морозов, это Марк Рубинштейн, это Владимир Сергеевич Иогельсен… Прямые ученики Мейерхольда и Вахтангова, прямые руки! И Ташкент оказался тем городом, где в 1948 году их не только не заперли вторично, но дали им возможность создать институт…» Об этом говорил в одном из своих последних интервью Марк Яковлевич Вайль – основатель легендарного ташкентского театра «Ильхом». Ташкентский государственный институт театрального искусства, в 1954 году, после открытия здесь художественного факультета, переименованный в Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, станет важной вехой и в судьбе Надежды Саввишны Крикун. Но это – уже позже. Пока же – 1941-й год, она – скромная вчерашняя студентка, которой посчастливилось встретиться с великим поэтом и присутствовать при разговоре двух необыкновенных людей, равных друг другу собеседников. «Я глядела на нее в немотно-почтительном состоянии, пораженная чудом живого прошлого, в котором были мансарды отверженных художников, Париж, Модильяни, Николай Гумилев и Блок, Александр Блок, стихи которого в военную пору зазвучали так современно: “Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего...”» Эфрос и Анна Андреевна заговорили о публикации ее стихов и переводов. Надежда, прислушиваясь к беседе, невольно оглядывала жилище поэта. Первое, что бросалось в глаза, – аскетическая бедность обстановки. В узкой, длинной, похожей на пенал комнате с одним окном стояла железная, тоже узкая кровать, покрытая серым солдатским одеялом. У окна – небольшой кухонный стол, заваленный бумагами и газетами. «Распятие над изголовьем постели и скудность обстановки делали это ахматовское пристанище похожим на келью…» Беседа Ахматовой и Эфроса продолжалась недолго. В том, что говорил он, звучала глубокая почтительность и доверительность. Анна Андреевна внимательно слушала, была немногословна, внутренне сосредоточенна... Потом, нередко встречаясь с ней в Ташкенте, позже в Москве, Надежда Саввишна поняла, что эта сдержанность вообще была присуща Ахматовой. Нередко обитателям «писательского общежития» на улице Карла Маркса, 7, доводилось видеть, как писательские жены и многие дамы из числа эвакуированных, словно верные пажи, служили Ахматовой. «Она с милостивой улыбкой принимала их услуги: кто-то делился с ней картофелем, кто-то тащил припасенную снедь или нес ведро с водой…» Подтверждение того, что мы знаем по воспоминаниям многих современников Ахматовой тех лет, видевших ее в эвакуации. Действительно, в ту самую комнатку-келью не прекращалось настоящее паломничество. «Люди идут к ней – стаями; она вывешивает записку на двери: работаю. Не помогает…» – жаловался драматург и сценарист В.М. Волькенштейн, живший одно время по соседству с Анной Андреевной. Более того – эти записки, вывешенные на ее двери, почти сразу исчезали: автограф поэта!.. «Пора забыть верблюжий этот гам и белый дом на улице Жуковской…» В 1950 году Надежда Крикун, вернувшаяся в Москву после эвакуации, снова вместе с мужем оказалась в Ташкенте: сюда выслали «безродного космополита» Эфроса. И началась новая страница ее жизни. Абрам Маркович – профессор кафедры искусствоведения Ташкентского государственного института театрального искусства, он читает будущим актерам и режиссерам лекции по истории искусств. В это учебное заведение пришла работать и его молодая жена: она помогала А.М. Эфросу в занятиях со студентами, затем, будучи искусствоведом по образованию, с 1951 года сама стала преподавать. Когда истек срок ташкентской ссылки Абрама Марковича, он уехал в Москву. А вот судьба Надежды Саввишны оказалась навсегда связана с нашим городом. Здесь ей суждено было прожить до конца жизни, снова выйти замуж, стать матерью… Много лет она проработала редактором на Узбекском телевидении. Одно время вела в литературной редакции ташкентского ТВ авторские передачи о художниках. В начале 1960-х на телестудию часто приходил юный Боря Голендер, впоследствии известный ташкентский краевед и историк: Надежда Саввишна пригласила его, уже в редакцию молодежных программ, в качестве соведущего передачи «Клуб старшеклассников». Тогда все передачи шли «живьем», репетировали перед эфиром, ни в коем случае нельзя было ошибиться. И как же это было интересно! Встречи умного, пытливого подростка и бывшей москвички, женщины «с раньшего времени», совершенно естественно употреблявшей в обыденной речи такие выражения, как «О темпора, о морес!», превращались в долгие увлекательные беседы на самые разные темы. Она рассказывала ему об эвакуации, об Ахматовой, Раневской, Эфросе... Многие из этих рассказов потом стали темами замечательных книг Бориса Анатольевича Голендера. Заставшая «утро» узбекистанского телевидения, Н.С. Крикун поставила на крыло многих своих молодых коллег. Об общении с ней, о ее уроках профессионализма, человеческого такта, неподкупной, немного даже старомодной порядочности с благодарностью вспоминают и режиссер УзТВ Махфуза Хамидова, и легендарная телеведущая Галина Мельникова, и многие другие, кто в 1960-е годы участвовал в становлении телевидения в нашей стране. А приглашенный Надеждой Саввишной в начале 1980-х годов молодой актер ТЮЗа Александр Колмогоров не только много лет вел детскую телепередачу, но и сочинял для нее сценарии, – чтобы впоследствии предстать зрелым, очень интересным писателем… Но, может быть, дело даже не в том, сколько лет проработала, сколько молодых талантов поддержала, кого наставила в профессии. А… в самом существовании когда-то в нашем городе таких людей, как Надежда Крикун. Скромных, вроде бы не выделявшихся какими-то особыми заслугами, в большинстве случаев не отмеченных официальным признанием, – но несущих, воплощавших в себе то, что образует культурную атмосферу общества. Собственной жизнью, отношением к окружающим, своими нравственными принципами формировавших духовное пространство города, в котором живут, и «подтягивавших» до этой высокой планки соотечественников. Годы, десятилетия спустя Надежда Саввишна скажет о городе, ставшем ее судьбой: «И по сей день, проходя по Хорезмской, мимо 50-й школы, где был когда-то госпиталь, я с грустью смотрю на противоположную сторону, на обнесенные изгородью старые строения – и будто снова вижу те, прежние дни…». …«Мы сейчас много говорим о братстве, интернационализме – и, вместе с тем, встречаясь порой с людьми, почему-то прежде всего пытаемся выяснить их национальную принадлежность. Русский, казах, узбек, еврей?.. Тогда же и в голову не приходило останавливаться на этом: все мы были дети одной матери-Родины, а она была в беде». Это – еще одна цитата из ее воспоминаний об эвакуации. И еще один урок нравственности от Надежды Крикун. Одной из тех многих, кто в годы народной беды узнал тепло и милосердие нашего прекрасного города – и в ответ поделился с ним своей духовностью и своей душой. Лейла Шахназарова
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||