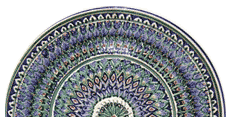| Мы освещаем новости культуры Узбекистана: театр, кино, музыка, история, литература, просвещение и многое другое. | 
|
|
|
|
18.11.2025 / 12:00:36
Yo'l bo'lsin: путь, который слышит душа 11 ноября 2025 года в большом зале Государственной консерватории Узбекистана прошло событие, которое трудно назвать просто концертом. Это было художественное высказывание, проникновенная история, пережитая всем залом, и глубоко продуманное театрализованное действие, в котором хоровое искусство оказалось не просто средством выражения, а полноценным языком человеческой памяти, чувств и внутренней правды. Концерт Хора при Государственном симфоническом оркестре Узбекистана под руководством Юлдуз Мадатовны Хуснитдиновой стал тем редким случаем, когда звук, слово, сценическое движение и идея соединяются настолько органично, что зритель перестаёт быть сторонним наблюдателем — он становится участником общего переживания. Название программы — «Yo‘l bo‘lsin» — словно задавало интонацию всему действию. Пусть будет путь. Пусть продолжается жизнь. Пусть человек, каким бы сложным ни был его путь, не теряет надежды. Эта мысль звучала не в отвлечённо-символическом ключе, а через тщательно выстроенную драматургию, раскрываюшую сам жизненный цикл, от первых дыханий новорождённого до последних шагов, от широты юности до трагедии войны, от разрыва сердечной боли до нового рассвета. Программа превратилась в философскую партитуру человеческой судьбы, где каждый номер оказывался частью большого рассказа, а хор его голосом, сердцем и памятью. С первых произведений зал погрузился в атмосферу рождения, начала жизни. «Shum bola», «Ay, tun», «Ey, quyosh» — все эти номера звучали как первые лучи света, первые движения внутреннего мира ребёнка, ещё чистые от тревог и сложных размышлений. Хор передавал это состояние необыкновенной мягкостью и искренностью, голоса словно настраивались друг на друга, как настраивается сама жизнь, когда только вступает в свою начальную фазу. Особая тёплая интонация появлялась в каждом переливе, и даже самые камерные оттенки звучали наполненными дыханием и теплом. Перед четвёртым номером программы на сцене появилась рассказчица — мать, женщина, прошедшая долгий жизненный путь. Её голос, спокойный и чуть дрожащий, открывал первую смысловую связку концерта, через неё в пространство зала входила тема материнской заботы и мягкого света судьбы, который сопровождает человека от рождения до последнего дня. Колыбельная «Alla» в исполнении Фазилат Ахмедовой стала не просто музыкальным номером, а моментом притяжения всей программы: голос звучал с такой нежностью, что зал словно растворялся в тишине, стараясь не нарушить хрупкость созданного ею пространства. Эта колыбельная была не просто песней — это был образ матери, хранящийся в каждом человеке, независимо от возраста, пола, судьбы. Следующие номера — «So‘zlar nag‘masi», «Tarona», «Oh kim, rahm aylamas», «O‘rik gullaganda» — переходили к теме юности и взросления. На фоне хора по сцене ходили матери с детьми разных возрастов — свежий и точный сценический ход, в котором зритель видел не абстрактное взросление, а живую повседневную жизнь. Было удивительно, насколько тонко сочетались в этом блоке музыка, движение и драматургическая мысль. Юность представала не как резкое расцветание, а как постепенное, трепетное становление человеческой души. Хор исполнял эти произведения с яркостью, но без избыточности, в звучании чувствовалась внутренняя культура коллектива, его умение передавать эмоциональный импульс через тончайшие оттенки динамики. Особый свет проливался на номера, посвящённые Наврузу. «Navro‘z salomi» и «Ishqingda» звучали как сама природа, просыпающаяся от зимнего сна. Хор передавал атмосферу весеннего пробуждения и лёгкости, голос солиста Жавохира Гуломова вплетался в общее звучание так органично, что возникал эффект живой, растущей изнутри мелодии. Этот фрагмент программы был словно вдохом перед следующим крупным драматическим поворотом. Свадебная песня «Yor-yor» и яркое попурри из узбекских народных песен создавали ощущение праздника, молодости, радостного продолжения жизни. Здесь звучала светлая улыбка судьбы, тот момент человеческой биографии, когда кажется, что впереди только счастье и безоблачные пути. Хор сиял, будто отражая эту общую радость, а зал с улыбкой следил за каждым номером. Но затем наступила смена света. На сцене появляется рассказчица: «Был июнь 1941 года…» Эти слова упали в пространство зала как холодная волна. Слышались звуки взрывов, сменилось освещение, и в этот момент весь зрительный зал будто перестал дышать. Контраст с предыдущими номерами был такой сильный, что даже привычный сценический переход превратился в эмоциональный удар. Хор начал «Iroq yo‘ldan» — и каждый голос в хоре звучал так, словно передавал не просто текст, а судьбу народа. В этот момент музыка перестала быть произведением искусства — она стала памятью.
Затем прозвучал четырнадцатый номер программы: солдаты сидят у костра, рядом с ними тени разлук, мысли о доме, надежды, которые гаснут и вспыхивают снова. Сцена стала пронзительна, это молчаливое солдатское размышление становилось почти физически ощутимым. Зал был погружён в полнейшую тишину, никто не шевелился, никто не пытался отвлечься. Музыка держала всех в своих руках. Кульминацией драматургии стала песня «Yo‘l bo‘lsin». Солдаты по одну сторону сцены, женщины и матери работающие в поле по другую. Им приносят фронтовые письма. И среди них — письмо той самой рассказчице. Весть о гибели сына. Эта сцена была настолько эмоционально насыщенной, что в зале стало слышно всхлипы. Многие пытались сдержать слёзы, но в этот момент никто не смог остаться сторонним наблюдателем: музыка, слово и трагедия, сыгранная с такой искренностью, будто происходило всё сейчас и со всеми нами, не оставили ни одного равнодушного. Когда мать акапельно запела слово «alla» из той самой колыбельной, которую когда-то пела младенцу — зал был полностью охвачен чувствами. Это был момент, когда искусство переступает границы эстетического и становится чистой человеческой болью. Песня не просто звучала, она проживалась каждым. У многих мужчин в зале текли слёзы. Это была не театральная, наигранная реакция — это была глубоко личная, искренняя боль, поднятая музыкой из самых далёких глубин души. Пятнадцатый и шестнадцатый номера удерживали эту драматическую волну, доводя её до момента, когда сын уходит в небеса, а мать дрожащим голосом говорит ему в спину: «Bolam… bolam…». Эти слова, простые и древние, были сильнее сотен метафор, они отражали саму суть того, что происходит на войне: остаётся мать, остаётся боль, остаётся память. Колыбельная «Alla» в исполнении Захро Абдуназаровой стала хрупкой паузой после боли — светом, который продолжает мерцать даже тогда, когда кажется, что жизнь остановилась. Этот номер был как тихая молитва, в которой заключена надежда преодолеть невысказанное. Последние номера программы возвращали слушателей к жизни, к земле, к радости бытия. «O‘rtar», «Ey sarvinoz», финальное попурри — всё это словно поднимало зрителя из глубины трагедии к ясному пониманию: жизнь продолжается. Хор уходил со сцены постепенно, словно растворяясь в пространстве и уходя в ту самую дорогу, которую символизировало название концерта. И именно этот уход хора стал сильнейшим финальным жестом: создавалось ощущение, что голоса продолжают звучать в воздухе даже после того, как исполнители скрылись за кулисами. Музыка как будто сама шла по дороге жизни — туда, где она должна быть услышана дальше. Нужно сказать отдельно: художественная концепция, драматургия и тонкость воплощения этой программы абсолютно уникальны. То, что создала Юлдуз Мадатовна Хуснитдинова вместе с хором, по праву можно назвать перформансом — музыкально-театральным действием, которое работает не только на уровне эстетического восприятия, но и на уровне глубинного эмоционального опыта. Хор показал мастерство, в котором нет ни фальши, ни нарочитости, только искренность, выразительность и удивительная способность чувствовать друг друга.
Каждый номер исполнялся акапельно и именно это решение сделало звучание не просто красивым, а максимально правдивым. Голоса были живыми, наполненными дыханием, теплом, движением, всё это создавало ощущение, что перед зрителем не музыкальный коллектив, а единый организм, в котором каждый голос — нерв, каждое дыхание — импульс, каждая пауза — часть большого высказывания. Этот вечер стал одним из тех событий, после которых зритель выходит из зала другим человеком, чуть более внимательным к жизни, чуть более чутким к словам, чуть более благодарным за то, что имеет. Это была не просто программа. Это была жизнь, прожитая в музыке. Сабина Гимадиева,студентка 1 курса магистратурыГосударственной консерватории Узбекистана
|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||